
Глава восьмая
Ночь обсвистывала деятельным ветром снасти, дома и памятники. Черноморский флот наполовину спал, наполовину бодрствовал, чутко прислушиваясь и на земле, и на воде. У Камышловского моста глядели дозорные. В полночь туда же лязгал эшелон, полный человечьих голосов. Далеко в море, роя зыбь ножевой грудью, скакал «Гаджи-бей» — карать Ялту, поднявшую руку на матроса. «Румыния», приняв пушки и десант, дымила к феодосийским берегам.
И что-то пронзительнее ветра пребывало над бессонными трюмными огнями, над братскими кладбищами, над бульварами, над чугунными офицерами, повелевающими с городских площадей, над обманчиво-мирной домашностью Севастополя.
«Ни-ка-ки-ми... чело-ве-чес-ки-ми... сло-ва-а-ми...»
Три слова, родившиеся утром на «Каче», обежали за день кубрики, улицы, рейд. Вечером, на все флотском митинге, с балкона гостиницы Киста, их прокричал еще раз чернобородый, оскаленный... Г'ололобая площадь грузно переступила с ноги на ногу, качнулась тысячами дул.
К потемкам на «Чайку» заявились Кузубов, Хрущ и Опанасенко, ходившие в экипаж получать винтовки — на себя и на нового командира. Рассыпалось содружество...
Каяндин, оказывается, забрав вещи, ушел ночевать в бригаду заградителей к земляку. «Соображает насчет демобилизоваться,— открыл его тайные намерения Кузубов, добавивший: — Свое «я» выше товарищей понимает!..»
Васька как сгинул вчера, так и не казался. На ночь каждый вогнал в затвор по пять патронов, приладил винтовку в головах. Только Опанасенко, которому такие хлопоты были не по душе, ворчливо сунул свою под койку:
— Та на шо мне, я на пехоту не учился, я электрик. Вот... до завтра только дожить... Спишусь на «Волю», ийбогу, нехай сами те идейные воюют, с кем хочут.
— Продаешь, жлоб, — скрежетнул, засыпая, Хрущ.
Шатало, колыбелило катерок крепнущим прибоем.
...На спардеке «Качи» светил на палубе единственный огонек из рубки радиста. Время шло к одиннадцати... Радист вздрогнул, увидев в иллюминаторе чуждое, защемленное добела лицо.
— Уходите, некогда, я с Парижем говорю! — закричал он, отступая. Руки его дрожали Впрочем, узнав вахтенного, тут же стащил наушники, сам заторопился, полез головой вдогонку — в черную дыру.
— Эй, браток, погоди... Что еще за калединцев слышно?
— А ничего...
— А офицера где?
— Та у Скрябина наверху, в карты играют...
У натралбрига, в наглухо задраенной рубке, сидели с вечера за преферансом — сам Скрябин, Бирилев, корабельный инженер — тоже из золотопогонных лейтенантов, и из нижних допустили в свою компанию самого почтенного: Анцыферова. К ночи, однако, без спроса, без приглашения привалили остальные — Блябликов, Иван Иваныч, безыменные с тральщиков. Да и в голову не приходило никому спрашиваться: было что-то в ночи сбивающее этих людей в одну боязливую кучу, толкающее их поближе друг к другу, помимо разницы в чинах и заслугах.
Кают-компанейские сидели, не расстегивая шинелей, как в караулке, неотрывно и чадно куря. Беседа плелась пустопорожняя, неправдоподобная: о чем угодно, только до самого главного, до сегодняшней ночи ни словом не дотрагивались, как до болячки. Особенно Блябликов ратовал — чуть что, пугливо вцеплялся в разговор, переводил на другое. Говорили о политике: что вот заключили мы с немцами мир, а вчера или позавчера опять подали всем радио, что Германия объявила нам войну; что турки напали на Эрекли и вырезали тамошних наших матросов («хорошую науку дали товарищам,— не на Каледина, а вон куда надо смотреть!»); что в море, говорят, опять вышел «Гебен»... Что же теперь, сызнова вооружаться, чинить тралы? Да какие же мы, с позволения сказать, вояки!
Ералашный Иван Иваныч не вытерпел:
— Война, а они вон чего делают; давеча телеграфисты секретничали, радио еще одно получено: арестовать всех офицеров-дезертиров и которые неблагонадежны. Это как же понять, господа, кого же они будут теперь арестовывать?
Блябликов наскакивал с плачущим лицом:
— Наше какое дело, наше какое дело, Иван Иваныч? Нас это совсем не касается, что вы в самом деле...
Вмешался лихой, вкрадчиво-загадочный дисканток Анцыферова:
— А еще про одно радио они не говорили?
Все насторожились:
— А что?
— Да так... подозрение одно есть. С чего они, как волки, вкось смотрят? И шумок уж идет...
— Да уж говорите сразу, без канители!
Блябликова заранее недужило, бучило всего, как на дрожжах.
— Факт, господа, что они скрывают про английскую эскадру... Удивляюсь, почему Владимир Николаевич как начальник не примет мер. Сто пятьдесят вымпелов, первоклассных, господа! Например, может быть, Дарданеллы уже прорваны, а мы сидим, не знаем...
Кают-компанейские разочарованно пели:
— О-о...
— Слыхали, слыхали...
— Который месяц прорывают. Тут и хода до Севастополя десять — двенадцать часов.
— Колчак бы в таком случае время терять не стал.
Анцыферов выпрямился всем своим старым костяком - ярый, карающий.
— А всемогущий... забыли, господа? В помыслах у нас — мрак, житейские дрязги... А он видит, все с высоты видит. Что же делается на земле, ужаснитесь разумом, господа, что делается? Неужели не вступится, не отведет господь?
Зябкое пробежало по каюте. Иван Иваныч скосился на карту военных действий, закрывавшую полстены.
— А шут ее поймет... Можбыть, вправду?
И многие суеверно повели туда же глазами. Цветники флажков, сердцеобразный, волнисто-полосатый контур Черного моря... А может быть, вправду — уже недалеко за ночью, за зыбями подходит цветное зарево — праздничными огнями из-за горизонта сигналят победители!.. В угарном куреве смутнели развешанные по стене декадентские этюдики, резные матросские сувенирчики, стопочки нот в тщательных шагреневых папочках. Немощная, никчемная Володина суть... При взгляде на нее еще жестче явствовало, какая — еще пока неслышно — метет кругом чугунная, все подгибающая под себя буря!.. Голоса стали глухие, рычащие, пересохлые...
В двенадцатом часу, когда нечаянно пресекся разговор, Скрябин вспомнил:
— Да, господа, был у нас сегодня Лобович с «Трувора» с докладом Рассказывал, как они усмирять ходили Евпаторию. Там ведь недавно большевиков порубили... Ну, вот, он и нагляделся. Знаете, входит — головой прямо вот на этот стол... как женщина.
Кают-компанейские шинели враз подались назад, в полутьму, слабо остерегаясь. Володя мимо них глядел бесчувственными слезными глазами.
— Главных, которых поймали, в очередь поставили к топке. Лобович говорит: крика я не мог вынести. Сошел вниз, рассуждаю перед ребятами: ведь колосники мне костями засорите, машина станет!
Блябликов умоляюще привставал, прижав ладошки к груди:
— Владимир Николаевич, ну не надо! Не надо лучше...
Даже Ивана Иваныча проморозило, приподняло, затараторил всякую несуразицу, нарочно Скрябина путал:
— Да, да, как же... всякие бывают дела! Всякие! Да, да! Они вон тоже говорят, матросы: не офицеров, говорят, а нашего брата поведут в эту ночь... На нас, говорят, тоже черные списки составлены, мы знаем.
— Списки?
Анцыферов изумленно, даже оскорбленно вскинулся на говорившего:
— Какие же это на них списки? Да если что... их безо всяких списков, подряд...
Карты ронял из трясущихся пальцев, подбирал и ронял опять. Дряблое личико пятнилось розовыми пламенами.
— Подряд... каждого сукиного сына подряд! А поджигателей и командиров, молокососов... самих... самих... в топку головой, сукиных...
— Шшш...
Ледяной голос Бирилева снисходительно-усмешливо направлял:
— Зачем же подряд, капитан? Наши деды умнее делали: каждого десятого на рею.
Что-то с узды сорвалось... иль сразу во все головы шибануло угорелой сладкой волной.
— Для острастки, верно... на рею, лучше нет!
— Я висельников боюсь... по мне бы — всех на баржу, запевал, да в море спокойненько.
— Забыли, как в шестом году собственное дерьмо ели.
— А-а!.. Шестой-то бы год сейчас... в шестом-то го-ду-у!..
— Господа, — вступился бледный Володя, — я бы просил, господа... Я вас бы просил в моем присутствии...
Анцыферов, забывшись совсем, в исступлении рушился на Скрябина:
— И вам, и вам, господин старший лейтенант, извините старика, добрый совет. Помните, Владимир Николаевич, любимчиков тоже по головке не погладят...
Сразу свернулась неловкая, разгоряченная тишина. Только Блябликов крутился посреди каюты, зажав ладонями щеки.
— Владимир Николаевич, — причитал он жалобно, — я болен, Владимир Николаевич, я пойду в каюту, лягу: пожалуйста, господа, если меня кто будет спрашивать, скажите — я тяжело болен... я не могу, я завтра, Владимир Николаевич, разрешите, в госпиталь лягу.
И по-слепому, не попадая куда надо, ткнулся в дверь. Холодное дуновение, долетевшее из черного погреба, снаружи, отрезвило всех. Иван Иваныч брякнулся на стул.
— До чего народ стал слабохарактерный, просто позор!
Скрябин мягкосердечно торопился овладеть разговором:
— Я, господа, Лобовичу сказал: если вам, Илья Андреевич, тяжело, вы переводитесь опять на «Качу», ваша вакансия старшего офицера свободна, отдохните у нас. Но... странный он все-таки человек: подымает голову и таким тоненьким-тоненьким голоском: «Нет уж, говорит, я с ними останусь...»
Володя, озираясь, тревожно смолк. Да никто уже его и не слушал. За стенами каюты пронесся железный трубный рев. То был не ветер. Звук поднимался откуда-то из водяных недр, врывался в слух хриплым не остановимым сигналом несчастья. Не было сомнения, ревел неурочный портовой гудок... «Вот оно, ого!» — крикнул Иван Иваныч, медленно поднимаясь со стула. Анцыферов присмирело крестился. Другие одеревенело глядели на иллюминатор, ожидая, что вот-вот выяснится какая-то ошибка, все стихнет, оборвется. Но завывание не обрывалось: наоборот- росло, жесточало, к нему присоединялись далекие сирены и пароходные истерические гудки, — все это, разметав недавнюю тишину, вздувалось бесноватой рекой воплей и визгов; било в набат над полночным спящим городом, над рейдом. И чей-то одинокий истошный крик, крик о помощи, рыднул внизу.
— Огонь... тушите огонь, — послышался повелительный хрип Бирилева. Он один не растерялся, взял на себя командование — бледный, сосредоточенно-насупленный. Однако, прежде, чем успели исполнить приказание, в дверь шатнулся из темноты всклокоченный Маркуша, ища — за что бы ухватится нетвердой рукой.
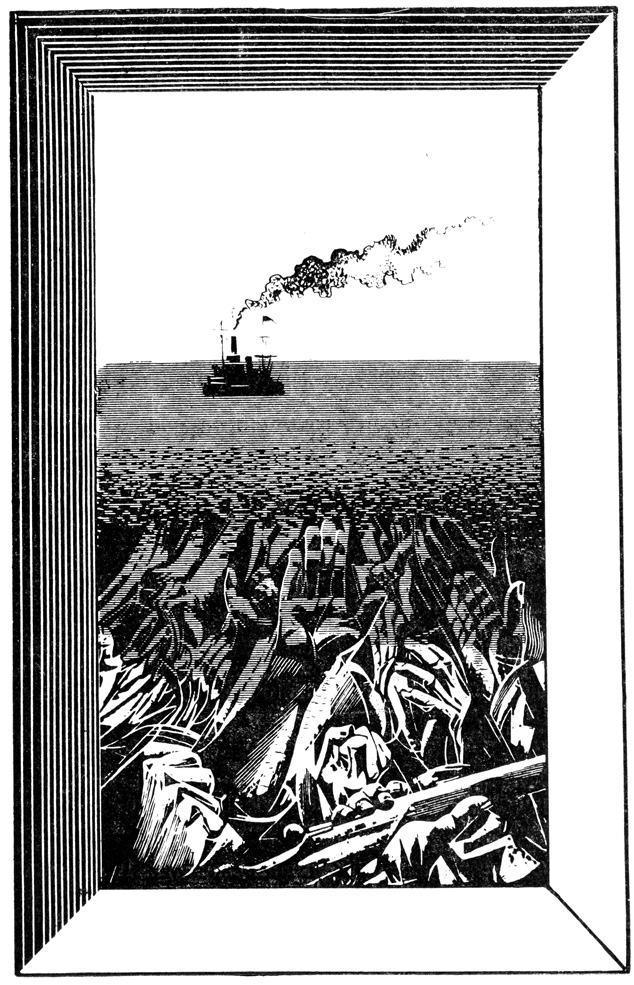
На корабле
— Господа, там радист чего-то орет... вы бы посмотрели.
Офицеры окружили его.
— Режут? — ахнул кто-то, не расслышав.
Маркуша мутно скислил лицо:
— Никто не режет, а тревога: татары к Камышловскому подошли. Я к вам, Владимир Николаевич... — Он воззрился на Скрябина и скучно сшиб фуражку набекрень.— Я, Владимир Николаевич, ввиду того, что команда моя вся уходит, так и я... пойду, с ними пошарлатаню. Вверенный мне корабль сдаю вам, старшему начальнику. Если паду жертвой за свободу, — голос у Маркуши горько треснул,— пускай, Владимир Николаевич, заместо меня сам народ кого выберет...
Маркуша с погибельной лихостью, пошатнувшись, отдал честь:
— До свиданья всем... У радиста, господа, посмотрите, какую он панику наводит!
На палубе грохало чугуном, гудки и сирены заливались по-кликушьи. Из рубки опасливо, кучей вслед за Бирилевым спускались в мрак.
— Татары ли?
Из освещенного иллюминатора отвалилось назад закованное в наушники, искаженное лицо радиста. Тот же истошный крик рвался, молил из каюты:
— Ва-а-ахтен-най!..
Неизвестно, что прибредилось радисту за одинокое полночное дежурство, оглушенному набатным гудком. И на палубе никого не было, вахтенного давно крутило внизу, в горячей трюмной суматохе. Товарищи не слышали крика... Увидев живых, наступающих в дверь офицеров,, радист в беспамятстве забился в угол.
— Оставьте меня, не мешайте... я говорю с Парижем!
И яростно куснул руку, которую Володя по-дружески, успокаивающе положил ему на плечо.
— С Парижем!..
Наушники мешали ему слышать, понять... В коридорчике без толку толмошились очумелые кают-компанейские. Между тем корабль сотрясался: с гулом колебали трап бесчисленные, сбегающие на набережную ступни.
Черноморский флог восставал по тревоге.
А напротив, через коридорчик, в своей каюте лежал Блябликов с открытыми в темноту глазами. Он слышал страшный гудок, и крики, и душегубный топот за своей дверью; ясно было, что уже пришли, кончают всех... Зацепенел в одеяле, не шевелясь, не дыша, приготовившись к последнему, беспомощно ощущая, как одевает все его тело обжигающая и ледяная теплота. Блябликов лежал и мочился.
Шелехов проснулся в неясном смятении. Голову раздирало скрежещущее железо. Только спустя минуту уразумел, что это по-грозовому, несмолкаемо рычит гудок. Сверху били ногой в люк.
— Сергей Федорыч, тревога... Сбирайтесь, тикаем до «Качи»!
Одевался в торопливом ознобе. Первая мысль была об отряде. Наверно, уже собирался, бушевал около «Качи». Ждал командира. Не думалось, что случится так скоро. И целая гора забот и страхов подвалилась под сердце, укусила... справится ли? Конечно, Шелехов не мог знать, что никакого отряда больше не существовало, что качинские, не дотерпев, похватав винтовки, врассыпную сеялись уже по темным портовым тропинкам, туда же, куда бежали поднятые ночным сполохом и боевым нетерпежом кубрики и трюмы всего флота.
Позже, когда узнал, только вздохнул освобожденно.
...Вещи — поручить Опанасенко. Да и много ли их, вещей? Вот они, кучей темнели, навешанные в углу. Офицерская шинель, китель с университетским значком; еще одна шинель — студенческая, тужурки с синими петлицами, махрявые брюки, на которых засохла еще петербургская грязь. Разноцветные прощальные куски жизни пролетали, как за окном вагона. Что-то подсказывало, что к этим вещам не вернуться больше никогда. Он погрузился на минуту в них лицом — в грустный, отступающий от его прикосновения прах... Так далеко ушло все — за ровень длинных-длинных, как океаны, дней... Ему вспомнилась фраза из прочитанного, неведомо какого романа: «Уходя, он взял с собой любимый томик Боэция...» У него не было любимого томика Боэция. У него не было ничего, что он мог бы взять с собой в дальнюю дорогу... Грустная, но и облегчительная нищета!
Он позвал Опанасенко. Сложил на койку винтовку, патроны, папиросы. Вынул из тайного хранилища школьный браунинг. Горбушку хлеба на всякий случай. Кажется, это было все?
На корме, в синей темени, стояли двое стройных, прямолобых, с винтовками на плечах, как статуи, Кузубов с Хрущом. Он, третий, присоединился — приземистый, немного пригорбленный от сиденья за книгой. Опанасенко высунулся следом, махал из могильного своего логова:
— Счастливо!
За гудком послышалось едва... Чем-то возбужденным, праздничным опахнул темный воздух, вероятно, от огней, от будоражно поднятого в ночи многолюдья. Осыпалась круча под бегущими штоломными ногами. Завидно было, что нельзя, как Хрущу, с припляской скакать через овражки, разгульно вопить:
— Э-эй, Кузубов, друг! А можбыть, и живые назад не вернемся... а ну, и мать с ней!
Кузубов поспевал сзади мягко, по-кошачьи, — за его голосом угадывалось подслеповатое, смешливо-торжественное лицо.
— Нет, Хрущ, я смерти не хочу. Ты скажи, чего мы видали с тобой в наши молодые годы?
«Теперь-то увидим!» — хотелось вызывающе крикнуть Шелехову. Ночь обтекала его ознобной, огненной свежестью. Так вот оно какое — то, что манило, и ужасало, и закрыто было от него всю жизнь. Пьяная смертная гарь под окнами ораниенбаумской школы... Бушеванье борьбы и жути, бившееся о стенки его тюремной каюты... Теперь он дорвался, брал свое, до дна вдыхал обжадовелой грудью... Вот оно какое!... Над портом продолжали штурмовать гудки, рыдание сирен. Прожекторы разрывали нагорный мрак неестественными солнцами. Шлюпки высыпали в темень воинством тревожных, рыщущих огоньков. От всего поддувал обжигающий ветерок напора и опасности...
...Конец ночи был — за севастопольскими рубежами.
Много народу ушло из Севастополя безвестно в ту ночь. Ушло и не вернулось. Шеститысячная волна матросов-повстанцев и портовых в три дня смыла с полуострова малодушную контрреволюцию, а там устремилась далее, на Синельниково, на Ростов, захватив с собой, среди тысяч других, и крошечную судьбу некоего Шелехова.
|
ПОИСК:
|
© ISTORIYA-KRIMA.RU, 2014-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://istoriya-krima.ru/ 'Крым - история, культура и природа'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://istoriya-krima.ru/ 'Крым - история, культура и природа'