
Андрусовские дни
Невзирая на тревожное настроение, свист ветра в снастях и сильную качку, дефицит сна в результате предшествовавшей бессонной ночи плюс выпитый для профилактики маленький стаканчик коньяка взяли свое: я крепко заснул и проснулся лишь поздно утром 23 августа, когда "Меотида", следуя далеким курсом, проходила уже Южным берегом Крыма и я узнавал знакомые силуэты Крымских гор - Бабуган, неправильная трапеция Чатыр-Дага, зубцы Демерджи... Ближайшей нашей остановкой должен был быть Судак, где к нам по уговору должен был присоединиться профессор Николай Иванович Андрусов, которого Зернов обещал свезти на давно его интересовавшие знаменитые "Камни-Корабли", что лежат в море против горы Опук на Керченском полуострове. В виде ответной любезности Андрусов обещал Зернову показать замечательные послетретичные террасы близ деревни Эльтиген, недалеко от Керчи.
Умывшись и напившись кофе, я взошел на капитанский мостик, где уже находились капитан и его помощник. Море было почти спокойно. На его поверхности покачивались многочисленные буревестники, которых я до этих пор никогда не видел с берега. "Как вы называете по-рыбацки этих птиц?" - спросил я симпатичного рулевого в матроске и гражданской фуражке, стоявшего за штурвалом. "Питоны это", - отвечал он.
Пока пароход подходит к Судаку, я воспользуюсь случаем познакомить читателя с командой парохода "Меотида", с которой мне пришлось жить в ближайшем общении.
Публика была разношерстная и довольно любопытная. Капитан Вишиа (Viscia) был по национальности "женовезцем", или "керченским итальянцем", представителем в прошлом довольно многочисленной в Керчи и Феодосии итальянской колонии, как это ни странно, сохранившейся там, несмотря на все исторические передряги, еще со времен средневековых генуэзских колоний.

Гора Опук с моря
Несмотря на то, что эти женовезцы достаточно обрусели и внешне почти не отличались от русского населения крымских городов, они в описываемое мною время еще цепко держались за католическую религию и отнюдь не забывали и родного языка; больше того, они не вполне утратили связь и с древней своей метрополией и иногда ездили в Геную повидать родичей, закончить образование и вообще понабраться итальянского духа.
Капитан Вишиа был не старый еще человек. Во внешности его не было ничего итальянского, и речь его не отличалась от жаргона южнорусских рыбаков и корабельщиков. По отзывам сослуживцев, Вишиа был настоящим морским волком - бесстрашным и опытным.
Гораздо интереснее был старший помощник, тоже женовезец по фамилии Порчелли. Этот симпатичный и интересный человек был в жизни, что называется, неудачником, единственно в силу своей безалаберности и слабохарактерности. По своему культурному уровню Порчелли стоял много выше капитана, да и всего прочего начальствующего состава "Меотиды". Еще бы! Он прошел полный курс наук в Генуэзской духовной семинарии, куда часто откомандировывали своих детей более состоятельные крымские итальянцы. Специальные морские познания Порчелли приобрел на практике и путем сдачи экзамена на штурмана каботажного плавания. И вот этот неглупый, интеллигентный и знающий человек, легко справлявшийся со своими обязанностями старшего помощника и носивший "офицерскую" форму начсостава, официально числился в списках команды старшим матросом, получая соответствующее содержание.
- Да плюньте вы на портовое начальство! - говорил неудачнику его приятель, уже настоящий старший матрос, с которым я познакомился, когда он стоял за штурвалом. - С вашими ли знаниями получать матросское жалованье? Плюньте и поступайте на любой коммерческий пароход, где вам с радостью будут платить настоящий оклад.
- Не могу, Коля, не могу я бросить "Меотиду", - говорил слабохарактерный потомок Колумба, безнадежно отмахиваясь рукой.
Как старый студент - а следовательно, протестант и противник всякого угнетения человека - я был до крайности возмущен бессовестной эксплуатацией знающего специалиста и решил при первом же удобном случае замолвить за Порчелли слово; подобный случай представился скоро.
Я очень подружился с Порчелли, с которым можно было поговорить о многом, вплоть до стихов Горация и Овидия. От него же я получил свои первые познания языка Данте и Боккаччо. И теперь еще, желая вспомнить, сколько дней имеет интересующий меня месяц, я прибегаю к прочно укрепившемуся в памяти итальянскому мнемоническому двустишию, которому научил меня Порчелли:
Trente giorni a novembre, Сои avrilli, iuni, settembre*.
* (По тридцати дней имеют ноябрь с апрелем, июнем и сентябрем.)
А вот и другое, преподанное им, нравоучительное двустишие:
Baccho, tabacco e Venere Reducon e' uomo in cenere*.
* (Вино, табак и Венера испепеляют человека (итал.).)
Машинная команда "Меотиды" состояла из старшего механика Шевченко - флегматичного украинца, коренастого и усатого, и второго механика Григолия - молодого мингрельца с колючим лицом и черными бачками. Григолия старался говорить вычурным интеллигентным языком, причем иронически величал себя "азиатом и татарским отпрыском".
Я не помню точно, сколько было на "Меотиде" машинной и палубной команды, кроме начсостава; я хорошо помню двух машинистов и кочегаров одновременно: одного коренастого, молчаливого блондина, очень любознательного, любившего почитать и рвавшегося к образованию; другого - мрачного, черноглазого темрючанина с неправильным, как бы перекошенным лицом и необычайно жилистыми руками. Злые языки говорили, что в разговоре с "Темрюком" нельзя распускать язык, ибо он подозревается в связи с охранкой. В свободное время "Темрюк" любил сидеть на палубе и, водя по строчкам закорузлым пальцем, читать истрепанный номер "Русского богатства". По-видимому, читал он, подобно гоголевскому Петрушке, единственно ради процесса чтения.
Из матросов, помимо старшего матроса Коли (приятеля Порчелли), упомяну еще младшего матроса, чудаковатого добродушного поляка. Весьма колоритной парой были старый усатый кок и юнга Васятка, его помощник. Они находились в состоянии перманентного препирательства: ворчливый кок непрестанно "шпынял" задорного юнгу, а тот довольно удачно огрызался и весьма образно рассказывал нам про чудачества выжившего, по его мнению, из ума старика.
Но вот, наконец, к полудню перед нами вырисовалась остроконечная гора Сокол, у подножия которой примостились живописные развалины Генуэзской крепости и раскинулись белые домики Судака. Справа охранял залив выжженный солнцем мыс Алчак-Кая.
Подав условленный сигнал протяжным гудком поджидавшему нас Андрусову, мы сразу же начали драгировать, сделав разрез из четырех станций. На первой из них (№ 12) неподалеку от берега, на глубине 3-7 саженей, мы нашли мелкий песок. Нам, привыкшим к светлом у песку севастопольских берегов, этот южнобережный песок, образовавшийся из обломков глинистых сланцев и мраморовидных известняков, показался очень темным. Однако фауна его мало отличалась от знакомой нам севастопольской: то же изобилие закапывающихся моллюсков с преобладанием гульдии и венерки (Venus), раки-отшельники в раковинах Nassa и безобразная рыба звездочет.
Следующую станцию Зернов, желавший во что бы то ни стало найти на Южном берегу Крыма устричную гряду, сделал на ракушечнике, на глубине 14 саженей (около 25 метров). Однако из моллюсков, помимо мидий и всякой мелочи, мы нашли лишь отдельные экземпляры устриц. Створки моллюсков были покрыты различными водорослями, среди которых, очевидно, держались выдрагированные нами мелкие "морские собачки" с кожистыми придатками над глазами (Blennius tentacularis). "Нет настоящего устричника! - резюмировал Зернов. - Пойдемте дальше, на фазеолиновый ил".
Однако станция № 13, которую мы сделали на глубине 40 саженей, следовательно уже в пределах фазеолинового ила, оказалась очень бедной жизнью: серый с черными прослойками ил содержал мало даже самой фазеолины.
"Надо возвращаться, а то Андрусов заждется!" - сказал С. А. Зернов. Однако на возвратном пути мы взяли еще одну станцию в области мидиевого ила, на глубине 22 саженей. Несмотря на это, густой и вязкий ил содержал гораздо больше крупных Mactra, чем самих мидий и фазеолин. Зернову показалось замечательным, что на створках раковин сидели нежные красные водоросли и Polysiphonia, которые под Севастополем он считал характерными для биоценоза прибрежных скал.
В истории нашей экспедиции станция № 14 замечательна тем, что здесь единственный раз за весь месяц С. А. Зернов взял, для очистки совести, одну пробу поверхностного планктона. "Ну, теперь скорей к берегу, а то, видите, лодка отчаливает - верно Андрусов!" - сказал он, фиксируя планктонную пробу.
И действительно, не успели мы бросить якорь, как к борту "Меотиды" привалила лодка с гостями: помимо характерной бородатой фигуры самого Н. И. Андрусова, в ней сидела какая-то пожилая дама и элегантно одетый
седой мужчина. Дама оказалась Марией Васильевной Павловой, знакомой мне по Московскому университету, супругой моего учителя, профессора геологии А. П. Павлова; ее спутник был знаком мне лишь по рассказам - профессор астрономии Московского университета В. К. Церасский.
Оба они отдыхали в Судаке и воспользовались случаем посетить "экспедицию" Академии наук. Они с любопытством разглядывали наши сборы, осмотр которых мы только что закончили.
Марию Васильевну, составившую себе европейскую известность работами по третичным млекопитающим, почему-то привела в восторг маленькая морская собачка, помещенная мною в банку с водорослями.
- Какая прелесть! - любовалась она, разглядывая банку на свет. - Каждое перышко видно - совсем как ископаемая рыбка!
- Высший комплимент, который может палеонтолог сделать живой рыбе, это приравнять ее к ископаемой! - несколько непочтительно сострил я.
- Как? и вы зоолог? - стрельнула в мою сторону быстрыми глазами Мария Васильевна. - А мы-то думали, что вы матрос, настоящий морской волк! - Действительно - босой, вымазанный илом и одетый, по обыкновению, в матроску с закатанными рукавами, я всего менее походил на "студента императорского университета".
Ободренный тем, что мое язвительное замечание было принято гостями благосклонно, я решил продолжать и заявил Церасскому, что в морских пучинах живет пойманная нами сегодня рыба, именуемая Uranoscopus - то есть звездочет.
- Ну что же, покажите мне, молодой человек, моего морского коллегу, покажите! - благодушно полюбопытствовал маститый астроном, улыбаясь водянисто-голубыми глазами. - Фу, какая безобразная рыба! - воскликнул он через минуту при виде звездочета. - Нет уж, уважаемые зоологи, увольте меня от подобных коллег! И действительно, звездочет, иначе морская коровка, - с его неуклюжим телом и направленными вверх выпученными глазами принадлежит к числу наиболее безобразных рыб Черного моря!
Когда гости с нами прощались, Н. И. Андрусов любезно пригласил С. А. Зернова и меня посетить его вечером на занимаемой им с семьей дачке; конечно, мы с удовольствием воспользовались его приглашением - отход "Меотиды" был назначен на утро следующего дня. Особенно мне интересно и лестно было поближе познакомиться со знаменитым ученым, о заслугах которого в деле изучения Черного моря я недавно вычитал в известной сводке Совинского. Я уже видел Николая Ивановича летом во время прохождения мною практики на Биологической станции, когда он вдруг быстрыми шагами вошел в лабораторию и троекратно, по русскому обычаю, расцеловался с Зерновым.
Н. И. Андрусов переживал в описываемое время пору расцвета своих сил и способностей: это был плотный, выше среднего роста мужчина с окладистой, темно-русой с проседью бородой, лысиной во всю голову и умными, смеющимися светло-карими глазами. "Одно из славных русских лиц" - простое лицо умного деревенского мужика. Все существо Николая Ивановича так и дышало энергией, умом и добротой.
Проработав восемь лет профессором в Дерптском (Юрьевском) университете, он с 1904 года занимал кафедру геологии в Киевском университете. Для меня лично, как я уже указывал, Н. И. Андрусов был как бы куском истории: это ведь он, участвуя в 1890 году в "глубомерной" экспедиции на канонерке "Черноморец", открыл в глубинах Черного моря сероводород!
Будучи крупным геологом и палеонтологом, первейшим знатоком истории наших южнорусских морей, Н. И. Андрусов обладал также обширными познаниями в океанографии и зоологии, особенно в отношении фауны беспозвоночных Черного моря.
Как равный с равным, вел он с С. А. Зерновым беседу о разных корофиидах и мизидах. И не удивительно! Происходя из семьи моряка, будучи уроженцем Одессы и питомцем Новороссийского университета, Николай Иванович ведь учился зоологии у таких корифеев, как А. О. Ковалевский и И. И. Мечников...
Когда мы уже в темноте явились с Зерновым на дачку, занимаемую Андрусовым, вся семья была в сборе: его супруга Надежда Андреевна, старший сын - мой товарищ Леня, младший сын Дима - в то время еще гимназист, и две дочери - старшая, задумчивая, лицом похожая на отца Вера и младшая, вся в мать, цветущая Марианна. Что-то в лицах матери и Марианны показалось мне нерусским - да так оно на самом деле и было: ведь правильное отчество Надежды Андреевны было Генриховна. Она была русской лишь со стороны матери, отец же ее был знаменитый немецкий археолог Генрих Шлиман, прославившийся своими замечательными раскопками Трои и Микен.
Как сейчас помню этот вечер на террасе, ярко освещенной керосинокалильной лампой, в кругу высококультурной, симпатичной семьи! Разумеется, беседой руководил сам хозяин, речь которого, по обыкновению, блистала остроумием и глубокими мыслями. Будучи в то время увлечен изучением послетретичных морских террас Судака, Андрусов с жаром посвящал меня и Зернова в свои изыскания.
Лишь поздно вечером вернулись мы на пароход, взяв с собой Н. И. Андрусова с его легким багажом, ибо отход был назначен до восхода солнца 24 августа.
Быстро промелькнули немногие морские мили, отделявшие Судак от Феодосии. Мы шли довольно далеким курсом и приблизились к берегу, лишь огибая мыс Киик-Атлама (Дикий прыжок) с отделившимся от него камнем "Иван-Баба", увенчанным древней часовенкой. Еще до полудня мы пристали к молу феодосийского порта.
Немногие часы, которые простояли здесь, мы с Леней Андрусовым использовали для прогулки по порту, в котором я был первый раз. Здесь в этот день стояло несколько пароходов - австро-венгерский "Буда", итальянский "Genova" и другие. Разумеется, пароходы грузились хлебом нового урожая. Чрезвычайно заинтересовал нас подъем портовым краном огромной сваи, подлежавшей немедленной замене - настолько она вся была источена корабельным червем и покрыта мидиями, мшанками, водорослями...
Покончив с портовыми властями, наши моряки взяли отход на Керчь. Мы отвалили от мола и направились прямым курсом к "Камням-Кораблям", посещение которых было главной целью поездки с нами Н. И. Анд-русова.
Камни-Корабли представляют собой несколько крутых скал, возвышающихся в море в четырех километрах от берега Керченского полуострова, как раз против караваеобразной горы Опук. Два из этих камней, наиболее высоких, поразительно напоминают паруса какой-нибудь средней величины шхуны, откуда их старинное турецкое название "Элькен-кая" (парус-скала). Несомненно, они были известны мореходам еще в глубокой древности. Думают, что именно о них Гомер говорит в 13-й песне "Одиссеи", рассказывая, как разгневанный бог морей Посейдон обратил в скалу корабль, шедший в Схерию:
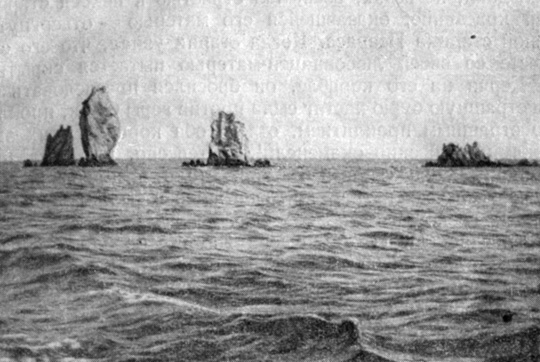
Камни-Корабли
"В Схерию, где обитал феакийский народ, устремился Ждать корабля. И корабль, обтекатель морей приближался Быстро. К нему подошел, колебатель земли во мгновенье В камень его обратил и ударом ладони к морскому Дну основанием крепко притиснул; потом удалился".
Конечно, нельзя поручиться за то, что слова "Одиссеи" относятся именно к керченским Камням-Кораблям, ибо в усеянном островами и островками Архипелаге подобных им, вероятно, немало... В новогреческом фольклоре с керченскими Камнями-Кораблями связано несколько легенд.
Согласно одной из них, Камни-Корабли (Петра Каравина) греков - не что иное, как окаменевшие суда старого керченского грека-рыбака Иорги Псараса и его сына... Этот последний, не ведая, воспылал страстью к некоей стареющей красавице, оказавшейся его матерью - отвергнутой женой старика Псараса. Когда старик узнал, что его сын вместе со своей любовницей-матерью пытается скрыться из Керчи на его корабле, он бросился преследовать их и в страшную бурю настиг сына против горы Опук, прокляв его страшным проклятием, отчего оба корабля с их экипажами мгновенно окаменели*. Интересно, что тема преступной любви сына к матери, столь распространенная в древнегреческой трагедии, еще жива в фольклоре современных греков.
* (Н. Маркс. Легенды Крыма, вып. III, Одесса, 1915.)
Конечно, Н. И. Андрусова Камни-Корабли интересовали не только с фольклорной точки зрения. Посвятив много лет изучению геологии родного ему Керченского полуострова (отец его служил капитаном в Керчи, и Н. И. Андрусов там вырос), он оставил нерешенным вопрос о петрографической природе, а следовательно, и о происхождении Камней-Кораблей.
- С одной стороны, - пояснил он нам, сидя за обеденным столом, - это могут быть просто осколки ближайшей к ним горы Опук и, следовательно, состоят из меотического известняка. Тогда они действительно "нептунического" происхождения. Но не лишено вероятия и другое предположение, что Камни-Корабли - осколки огромного вулкана мезозойских времен, западный бок вулкана сохранился в виде знаменитого Кара-Дага, мимо которого мы только что проходили. В этом случае они образованы туфом или базальтом, следовательно обязаны своим возникновением не Посейдону - Нептуну, а Вулкану. Лично мне последняя гипотеза кажется более вероятной. А белый цвет камней есть результат гнездования на них многочисленных бакланов, покрывших их своим пометом.- С глубоким интересом слушали мы все образное повествование Николая Ивановича и с нетерпением ожидали приближения загадочных скал - исследовательский энтузиазм Андрусова передался и нам.
Однако скалы показались лишь под вечер, и подошли мы к ним уже в полной темноте. Впрочем, для Андрусова это не было важно: ему надо было лишь высадиться на минуту на один из "кораблей" и отколоть от него кусочек.
Тем не менее подход к скалам в полной темноте требовал осторожности. Капитан Вишиа распорядился направить на них яркий пучок света судового прожектора, и мы осторожно, самым малым ходом, стали приближаться к скалам, в то время как матросы готовились к спуску шлюпки, на которой Н. И. Андрусов должен был высадиться на наиболее удобный для этого камень в качестве, как он говорил, "первого от сотворения мира геолога".
Не забуду я этих минут напряженного ожидания, когда перед нами, подобно парусу "Летучего Голландца", встала освещенная прожектором белая громада наиболее крупного камня. Его скаты были усеяны черными силуэтами сонных, ослепленных ярким светом бакланов, глаза которых, отражая лучи прожектора, горели как угли. Но вот отчалила лодка, на носу бородатая, гномообразная фигура Андрусова с огромным геологическим молотком в руках. Несколько взмахов веслами - и Андрусов уже на приступке скалы. Несколько увесистых ударов молотком - и возглас Андрусова: "Меотический известняк!" Несколько минут - и Андрусов уже на "Меотиде" и демонстрирует нам образцы самого обыкновенного белого меотического известняка, называемого в строительной технике керченским камнем.
Итак, проблема Камней-Кораблей была решена отнюдь не в пользу вулканической гипотезы: камни эти - не что иное, как остатки горы Опук, отмытые от нее вследствие векового наступания моря, несомненно сопровождавшегося опусканием под его уровень южной части Керченского полуострова. "Да, значит все-таки Посейдон - Нептун, а не Вулкан, - резюмировал Андрусов, бережно заворачивая в бумагу свои трофеи... - Знал, значит, старик Гомер, о чем пел".
Выполнив свое первое задание, "Меотида" полным ходом направилась к Керченскому проливу, уже глубокой ночью бросив якорь в керченском порту. Утомленный впечатлениями дня, я этого не слышал и проснулся 25 августа лишь поздно утром, когда солнце высоко стояло над таманскими берегами. Разбудил меня Леня Андрусов, приглашая посмотреть замечательные мшанковые обрастания вытащенной на берег деревянной сваи. Наскоро умывшись и захватив фотоаппарат, я выскочил на пристань, где застал уже Зернова и Андрусова, разглядывавших огромную сваю диаметром семь сантиметров и длиной около четырех метров, которая густо обросла колониальной мшанкой (Membranipora reticulum), в одном месте образовавшей нечто вроде ажурного "жабо" диаметром 40 сантиметров.

Н. И. Андрусов и С. А. Зернов у сваи, обросшей мшанкой
Причудливые фестоны этих обрастаний были в одно и то же время и изящны и внушительны.
- Хотя мы, палеонтологи, и выделили ископаемую мшанку, в третичное время образовавшую знаменитые мшанковые рифы Керченского полуострова, в особый вид Membranipora lapidosa, но она по существу ничем особенно не отличается в отношении структуры своих ячей вот от этой Membranipora reticulum,- пояснил нам Н. И. Андрусов. - Только в третичное время в области Керченского пролива были какие-то особо благоприятные условия, способствовавшие образованию целых мшанковых рифов, даже настоящих атоллов... Вы были когда-нибудь на горе Казан-тип, по северному побережью Керченского полуострова? - обратился Андрусов к Зернову. - Так ведь это же настоящий кольцеобразный атолл, недаром татары назвали его "Казан-тепе", то есть "котел-вершина"*. Но и в наше время мшанки, по-видимому, чувствуют себя в воде Керченского пролива особенно хорошо - ведь не образуют же они таких воротников у вас в Севастополе.
* (В 1909 г. Н. И. Андрусов только что издал на свои средства великолепную монографию "Diefossilen Bryozoenriffe der Halbinseln Kertsch und Taman".)
И действительно, я вспомнил тонкие изящные корочки близкой мшанки Membranipora repiachovi на листьях Zostera, которые мы зарисовывали под микроскопом во время летнего практикума на Севастопольской биологической станции.
По окончании фотографического сеанса мшанковое бревно с большими предосторожностями было погружено в трюм "Меотиды" для перевозки его в Севастополь. Съехав на берег, я отправился побродить по песчаному пляжу, где набрал большое количество различных ракушек, среди них крупных удлиненных "черенков" (Soleri), доселе мне совершенно неизвестных. "Ну, вот видите, - сказал С. А. Зернов, - а у нас в Севастополе живые Solen - величайшая редкость". Затем я в сопровождении младшего механика, кавказца Григолия, отправился бродить по незнакомому для меня городу - побывал на горе Митридат, откуда владыка Понтийского царства царь Митридат любовался действительно великолепным видом на древний Пантикапей и Босфор Киммерийский; побывал в Археологическом музее, в те времена находившемся в весьма жалком положении. Древний старичок сторож показал нам сваленные на дворе в бурьяне обломки античных колонн и ряд черепов древних пантикапейцев.
После обеда мы направились в геологическую экскурсию, ради которой был совершен наш заезд в Керчь. Был нанят парноконный извозчик, и мы покатили по мягкой пыльной дороге, извивавшейся среди выжженных холмов, по направлению к деревне Эльтиген*, раскинувшейся в 15 верстах на юг от Керчи. Прибыв часа через два на место, мы спустились к берегу пролива и пошли вдоль пляжа, под прикрытием крутого обрыва послетретичной террасы.
* (Теперь Героевское.)
Мы шли к югу, по направлению к северному берегу соленого Тобечикского озера, причем нависающий над нами обрыв постепенно повышался, достигая высоты почти 20 метров. В основании террасы лежали круто наклоненные слои темной нижнесарматской глины, на которых покоились несогласно послетретичные ракушечники, плотно сцементированные из крупных красивых раковин. Самый край обрыва был образован желтой лёссовидной глиной.
С молотком в руках Н. И. Андрусов лазил по обрыву, разбивая твердые комья сросшихся устриц, образовавших местами целые большие бугры, или "устричные рифы", как он назвал их.
- Вот почти такие же сростки устриц мы находили в прошлом году в Каркинитском заливе, когда плавали на "Бэре", - вставил Зернов.
- Да, но ваши устрицы были, вероятно, помельче этих! - сказал Андрусов, показывая действительно исполинские створки устриц, густо покрытые извивами трубок сидячих червей - серпулиц. Выше этих "рифов" раковины устриц и других моллюсков залегали более ровно; еще выше они были вкраплены в твердый песчаник, образовавшийся при поднятии дна из прибрежного песка.
Самое интересное было то, что виды, и ныне встречающиеся в Черном море, как, например, те же устрицы модилы и мидии, были гораздо крупнее, массивнее и красивее современных и, кроме того, в террасе были представлены виды, ныне в Черном море уже не живущие.
- Вот смотрите, - говорил Андрусов, - вот этот Tapes calverti вообще теперь вымер, а вот этот замечательный Cardium tuberculatum с бугорками на ребрышках - эта колоссальная Venus verrucosa, вот эта "Мактра глупцов" (Mactra stultorum) - всего в общей сложности свыше десятка видов и поныне живут в Мраморном и Средиземном морях.
- Чем же вы, Николай Иванович, объясняете такое роскошное развитие фауны? - спросил я Андрусова. - Быть может, средиземноморская фауна, проникнув через проливы Дарданелл и Босфора в Черное море, еще не успела выродиться?
- Кто его знает, - с улыбкой отвечал Андрусов. - Думаю однако, что при ныне существующей в Черном море солености большинство эльтигенских видов, которых мы не досчитываемся в Черном море, вообще не могло сюда проникнуть. Надо думать, что в то время и вода в Черном море была солонее и самое море было теплее. Вероятно, условия жизни напоминали те, что мы теперь видим в Мраморном море, где соленость воды несколько больше 2%. Я думаю, что такие благоприятные условия были в Черном море в последнее межледниковье. Вообще в происхождении этих послетретичных террас, которые я описал еще в 1905 году, много неясного, и я думаю ими серьезно заняться.
С увлечением занялись мы коллектированием эльтигенских окаменелостей, и скоро я набрал целую торбу для С. А. Зернова. Мы горячо благодарили Н. И. Андрусова за интересную экскурсию и, как всегда, блестящие объяснения*.
* (Впоследствии Н. И. Андрусов опубликовал несколько работ, посвященных послетретичным террасам Судака и Керчи.)
- Не стоит, друзья, не стоит! - добродушно отмахивался от нас Андрусов. - А вы, Сергей Алексеевич, обязательно пошарьте как следует в Керченском проливе и южнее его, - я уверен, что. вы найдете там и устричные рифы вроде вот этих и, пожалуй, даже мшанковые рифы. Ведь не на одни же только бревна нарастают мшанки!
- Конечное дело, поискать надо,- согласился Зернов.
- Вот и отлично! - обрадовался Андрусов.- Ну, а теперь пойдемте пить чай к Василию Александровичу Новикову. Это известный земский деятель, член первой Государственной думы. Я останавливался у него четыре года тому назад, когда исследовал эти террасы.
К Новикову мы попали, когда уже стемнело. Это был пожилой, тучный, профессорского вида человек. Принял он нас на террасе своего дома, ярко освещенной керосино-калильным фонарем. Не помню точно, о чем шла беседа - вели ее "старшие"; утомленный богатыми впечатлениями дня, я буквально клевал носом, слушая разглагольствования словоохотливого хозяина, и был несказанно рад, когда "старшие", наконец, стали прощаться и мы "погрузились" на извозчика.
На следующий день, 26 августа, мы рано снялись с якоря и направились обратно к Судаку, чтобы высадить Н. И. Андрусова. С интересом следил я за низменными берегами Босфора Киммерийского, который так мелок, что пароходы идут искусственно углубленным, отмеченным буйками морским каналом. Обогнув Кыз-Аульский маяк и выйдя в море, мы еще долго видели большие скопления морской травы - зостеры, выносимые из пролива течением и продвигаемые дальше вдоль берегов Крыма.
- Откуда столько травы? - спросил я Зернова.
- Как откуда? Конечное дело, из Меотийского болота! Ведь римляне презрительно называли наше Азовское море Palus Maeotis - Меотийское болото.
Проходя берегом Керченского полуострова, мы могли любоваться видом Камней-Кораблей уже при дневном свете.
По просьбе Н. И. Андрусова, прежде чем подойти к Судаку, мы сделали еще станцию против мыса Киик-Атлама, а потом - глубоководную станцию, чтобы "прощупать" край континентальной ступени и вновь убедиться в наличии здесь в иле полуископаемых "третичных" моллюсков - дрейссензий, микромеланий и других, открытых Андрусовым в глубоководном иле Черного моря еще в 1890 году, во время первой глубомерной экспедиции на канонерке "Черноморец". Начав разрез с линии нашего курса, мы нашли против мыса Киик-Атлама на станции № 16 на глубине 20 метров типичный мидиевый ил с богатой фауной.
Очень обрадовало нас нахождение крупной голотурии Synapta digitata-одного из немногих видов иглокожих, населяющих малосоленое Черное море. - "Смотрите, в какие шубы из зонардиний нарядились кардиумы", - воскликнул Н. И. Андрусов, показывая нам сердцевидку (Cardium), густо обросшую округлыми пластинками бурой водоросли Zonardinia. Образное выражение Николая Ивановича "шуба" очень, по-видимому, понравилось С. А. Зернову, и он часто потом употреблял его. Затем мы пошли прямо в море к западу и, опустив драгу на траверзе мыса Меганом на глубине 180 саженей (станция № 17), пошли обратным ходом к берегу. "В море дальше идти не стоит - здесь крутейший склон, почти обрыв, драга ничего не возьмет", - поучал нас Андрусов, по просьбе которого мы брали эту станцию.
Именно здесь он нашел во время прошлой своей экспедиции субфоссильных (полуископаемых) моллюсков. И действительно, пройдя лишь немного к берегу, мы нашли глубину всего около 90 метров и тотчас стали подымать драгу, которая принесла нам сизый, с белыми прослойками фазеолиновый ил с бедной живой фауной видов моллюсков, но с порядочным количеством мертвых моллюсков, ныне не живущих в открытом Черном море, а оттесненных в его лиманы и устья рек. Как потом оказалось, подняли мы их целых восемь видов*.
* (Главным образом Dreissensia polymorpha regularis и Micromi-tontasp. Помимо этого, были подняты Neritina liiurota, Dreissensia crasse, глубоководная Dr. rostriformis disiincta, Caspia pallasi, C. gmelini и несколько обломков Clessinia.)
"Здесь они, здесь они, как и 18 лет тому назад, никуда не убежали!" - радовался Андрусов по поводу нахождения моллюсков. Между Андрусовым и Зерновым завязался спор. Первый настаивал на своей старой точке зрения, согласно которой моллюски лежат именно там, где они жили на дне сильно опресненного верхнетретичного или нижнечетвертичного бассейна. Зернов, основываясь на работе француза Туле, доказывавшего, что за такой долгий срок раковины моллюсков, лежащие на поверхности ила или на небольшой его глубине, неминуемо должны были бы раствориться, оспаривал первичность залегания моллюсков и стоял на том, что они вымыты из недалеких слоев мыса Чауды, известняки которого образованы скоплениями верхнетретичных дрейссензий*.
* (Сейчас слои Чауда считаются нижнечетвертичными.)
Впрочем, оба - и Зернов и Андрусов - согласились на том, что нахождение весьма разнообразных видов полупресноводных моллюсков в иле современного Черного моря пока еще не объяснено сполна и оставляет много загадочных пунктов. И действительно, сполна эти факты были объяснены только значительно позже.
"Ну, теперь с меня довольно, - сказал Н. И. Андрусов, - спасибо, Сергей Алексеевич! Идем в Судак, пообедаем - вон Васятка за нами пришел".
За столом Николай Иванович, которого находка старых знакомцев сильно возбудила и воскресила в нем воспоминания прошлого, был как-то особенно оживлен, словоохотлив и остроумен и сообщил нам множество интересных, порой пикантных подробностей из жизни глубомерных экспедиций.
- Вы думаете, кто открыл заражение глубин Черного моря сероводородом - я или Шпинцлер? - говорил он. - Ничего подобного! Открыл его боцман канонерки "Черноморец". Вытянув ручной лебедкой батометр с глубины нескольких сот саженей и открыв его, чтобы перелить воду в экспедиционный пузырек, боцман вдруг понюхал воду и с удивлением произнес: "Ваше высокородие, а вода-то того... воняет!.."
От глубомерных экспедиций беседа перешла на знаменитых зоологов, у которых Николай Иванович учился в Новороссийском университете. Он рассказывал нам и о насыщенных фактами, но суховатых лекциях "премудрой крысы Онуфрия", как в Новороссийском университете шутливо, но любовно называли А. О. Ковалевского, и о блестящих, темпераментных лекциях И. И. Мечникова, когда он, казалось, забывал все на свете, кроме того, о чем говорил. Объясняя цикл жизни какого-нибудь солитера, он красноречивыми жестами показывал на себе весь путь солитера от ротового отверстия, потом - по извивам кишечника, затем в виде яиц или целых оторвавшихся проглоттид, выходивших наружу!..
Из окон нашей кают-компании виднелись зубцы потухшего вулкана Кара-Даг; мы шли довольно близко от берега, и я, выйдя на палубу, смог рассмотреть в бинокль на берегу небольшой бухточки, на запад от его утесов новое, кубической формы здание - зародыш морской биологической станции, сооружавшейся на частные средства профессора физиологии Московского университета Льва Захаровича Мороховца и приват-доцента - невропатолога того же университета - Терентия Ивановича Вяземского. Повыше кубического здания виднелись уютные домики принадлежавшего Вяземскому санатория для нервнобольных.
Быстро промелькнули перед нашими глазами скалистые, бесплодные берега между Отузами и Судаком. Обогнув далеко выдающийся в море мыс Меганом (Криу Метопон, или "бараний лоб" древнегреческих мореходов), мы снова бросили якорь в Судакской бухте.
Настало время расстаться с Николаем Ивановичем Андрусовым. Напрасно мы хором упрашивали его поплавать с нами еще хоть недельку - увлеченный своими работами над керченскими террасами, он не хотел об этом и слышать. "Что вы, что вы, друзья, - говорил он, - мне еще многое надо выяснить в Судаке, а уж близится начало лекций. Поехать с вами - это значит застрять в Крыму еще на полмесяца; киевские черносотенники и так на меня собак вешают!"
Как ни жалко нам было, а пришлось проститься с человеком, которого мы все, в том числе и команда "Меотиды", успели от души полюбить. "Душевный старик!" - определил его молчаливый механик Шевченко. "Простой, свой человек, даром что профессор!" - подтвердил старший матрос Коля. И действительно, благожелательность ко всем людям Николая Ивановича, его неистощимая веселость и остроумие, наконец, его огромный научный энтузиазм вносили немало оживления и объединения в жизнь нашего еще не сработавшегося коллектива.
О том, как мало поведение Н. И. Андрусова соответствовало представлению о европейски известном ученом, своего рода "генерале от науки"*, свидетельствует хотя бы такой штрих.
* (Вскоре после описываемого времени Н. И. Андрусов был избран академиком.)
Во время довольно длительного перехода от Керчи до Киик-Атламы я мирно кейфовал в удобном гамаке, подвешенном под капитанским мостиком, будучи погружен в чтение взятой с собой книги Совинского. Вдруг я почувствовал как бы легкий щелчок по носу. Через некоторое время последовал другой, и на мою грудь упал кусочек апельсинной корки. "Кто там балуется?" - зарычал я, приподнимаясь и оглядываясь кругом, - поколочу нахала!" Однако виновник баловства не объявился.
Когда же я после третьего щелчка по носу, наконец, соскочил с гамака с самыми решительными намерениями, думая не на шутку расправиться с нарушителем моего покоя, внезапно позади меня раздался раскатистый хохот и с мостика показалась улыбающаяся бородатая физиономия Николая Ивановича. Для него, как и для многих действительно крупных людей, не существовало разницы между заслуженными и именитыми людьми и каким-нибудь начинающим юнцом вроде меня.
Душевно распрощавшись с Николаем Ивановичем и отсалютовав ему протяжным прощальным гудком, мы полным ходом направились обратно в Феодосию, чтобы пополнить запасы топлива и приняться за нашу главную работу.
|
ПОИСК:
|
© ISTORIYA-KRIMA.RU, 2014-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://istoriya-krima.ru/ 'Крым - история, культура и природа'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://istoriya-krima.ru/ 'Крым - история, культура и природа'